
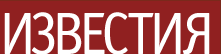
|
Презентация книги
Нобелевские премии по медицине В 1920 г. лауреатом Нобелевской премии стал датский ученый Шак Август Стинберг Крог (1874-1949) „за открытие механизма регуляции просвета капилляров“. Основоположник научной физиологии Уильям Гарвей в 1628 г. выпустил книгу „Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных“, в которой обосновал представления о циркуляции крови по замкнутой системе сосудов. В его системе кровообращения не хватало важного компонента, связующего артерии и вены. После микроскопических исследований, проведенных М. Мальпиги, и сделанных им описаний капилляров было обосновано полное представление о круговом движении крови. После работ Крога физиологи задавали себе вопрос: как случилось, что за столетия, прошедшие после открытия Мальпиги, никто не рассмотрел под микроскопом динамики капилляров? В начале XX века Крог, наблюдая в микроскоп капилляры языка лягушки, установил, что не все они заполнены кровью. Если бы не это обстоятельство, увеличение минутного объема кровообращения сопровождалось бы увеличением линейной скорости кровотока, что отрицательно сказалось бы на обмене газами (кислорода и углекислого газа) между кровью и тканями. Кроме того, при повышении активности органа раскрытие дополнительного количества капилляров увеличивает площадь контакта, скорость диффузии и, как следствие, улучшает снабжение органа кислородом. Повышение давления в приносящей артериоле не приводило к расширению капилляров. До Крога никто не связывал динамику просвета капилляров с системными изменениями у циркуляции. Крогом было также установлено, что некоторые вещества, а также тепло и холод изменяют количество действующих капилляров. Открытие Крога позволило создать единую концепцию кровообращения и его регуляции. Представление о том, что постоянно открыта и участвует в обмене лишь небольшая часть (позднее подсчитали: примерно 4 %) из всех имеющихся в теле капилляров, стало основой для выяснения механизмов некоторых видов шока, при которых повсеместно и сразу раскрывается во много раз больше капилляров, чем кровь способна заполнить. Системное кровяное давление падает, и организм погибает от недостаточного кровоснабжения жизненно важных органов. Механизмы, которые описал Крог, лежат в основе методики искусственного кровообращения. Первая треть XX столетия была отмечена введением в клинику ряда новых научно обоснованных объективных методов исследования больных. Еще в 1905 г. русский врач Николай Сергеевич Коротков (1874-1920 гг.) предложил звуковой метод определения артериального давления у человека, ознаменовав новую эпоху в изучении функционального состояния сердечно-сосудистой системы у здоровых и больных людей. Функциональная диагностика сердца, в дальнейшем, получила ряд новых приборов для исследований. В 1924 г. лауреатом Нобелевской премии стал Виллем Эйнтховен „за открытие механизма электрокардиограммы“. Эйнтховен начал с экспериментов с капиллярным электрометром и уже в 1890-е гг. создал методику, позволяющую регистрировать с поверхности тела колебания электрических потенциалов в сердце. Характерные колебания он назвал зубцами (P, Q, R, S, T), промежутки между ними Еще в 1906 г. Эйнтховен предлагал записывать ЭКГ с помощью струнного гальванометра, находящегося в физиологической лаборатории, на расстоянии нескольких километров от больницы. После того электрокардиографы появились в каждой больнице, об этой идее забыли, но вернулись к ней снова в 1960-е гг.: создание вычислительной техники позволило производить компьютерный анализ ЭКГ, переданный по телефонным проводам в крупный лечебный центр прямо из дома больного. Известный саратовский профессор Э. Ш. Хадфен (род. в 1923 г.) сконструировал и изготовил аппаратуру для передачи ЭКГ и другой информации по телефону и радио. На базе этой аппаратуры в руководимой Эммануилом Шеваховичем Халвеном клинике пропедевтики внутренних болезней Саратовского медицинского института впервые в СССР был создан дистанционный консультативный диагностический центр (1972 г.). А в 1983 г. МЗ СССР был издан приказ об организации в стране дистанционной кардиологической консультативной службы, базирующейся на созданной в Саратове аппаратуре и методах. В 20-е гг. было сделано два фундаментальных открытия в области клеточной физиологии и биохимии. Английский ученый Арчибальд Вивьен Хилл (1886-1977 гг.) и немецкий физиолог Отто Фриц Мейергоф (1884-1951 гг.) изучали энергетические процессы в мышце. Хилл установил, что тепло в мышце образуется и в период ее расслабления, а Мейергоф объяснил роль молочной кислоты в мышечном сокращении. За это они были отмечены Нобелевской премией в 1922 г. С 1910 по 1920 г. Хилл разрабатывал метод точной регистрации теплопродукции в мышцах и обнаружил, что в период мышечного сокращения происходит анаэробный процесс высвобождения энергии, а в период расслабления Тканевое дыхание происходит не только в целой мышце, Мейергоф повторил опыты, используя тонко измельченную мышечную ткань, поддерживаемую во влажном состоянии, и обнаружил, что тканевое дыхание происходит даже активнее, чем в мышечном препарате. Помимо этого Мейергоф доказал, что тканевое дыхание дрожжей принципиально не отличается от того же процесса в животных клетках. Результаты исследования, полученные Хиллом и Мейергофом, позволили приблизиться к пониманию главных физико-химических процессов, происходящих в работающих мышцах. Данные представления стали основой важнейших разделов физиологии труда и физиологии спорта и указали магистральное направление исследований последующим лауреатам Нобелевской премии (1931, 1937, 1947, 1953, 1955, 1964, 1974 и 1992 гг.). Нобелевская премия 1929 г. была получена Христианом Эйкманом (Нидерланды) и Фредериком Гоулендом Хопкинсом (Великобритания). Эйкман сделал открытие витамина В1 как средства против болезни бери-бери (полиневрит), а Хопкинс открыл витамин А и определил влияние на рост и развитие организма. В настоящее время известно более полутора десятков витаминов, одни из которых растворяются в жирах, другие Одним из крупнейших открытий прошедшего века было открытие гормона поджелудочной железы Бантинг и Бест прооперировали собак, через семь недель измельчили ткань железы, перетерли ее с песком и ввели собакам, у которых после удаления поджелудочной железы уже развились классические симптомы сахарного диабета. При этом уровень сахара нормализовался. Авторы усовершенствовали метод: экстракт поджелудочной железы плода животного содержал инсулин в большей концентрации. Бантинг и Бест доложили результаты Маклеоду, тот направил все силы своей кафедры физиологии Торонтского университета на получение нового препарата. В том же году он был успешно испытан в клинике. Соответственно уже в 1922 г. было налажено промышленное производство препарата. Бантинг отказался патентовать открытие, что принесло бы ему огромное состояние, поэтому новый метод быстро распространился по всему миру. Открытие Бантинга и Беста положило начало новому научному направлению В 1923 г. Ф. Бантинг и Д. Маклеод были отмечены Нобелевской премией. Узнав о присуждении премии ему (Бантингу) и Маклеоду, Бантинг был беспредельно возмущен тем, что обошли Чарлза Беста, и демонстративно отдал половину денег Бесту. Признавая (в неофициальной обстановке), что произошла серьезная ошибка в определении лауреатов, Нобелевский комитет, тем не менее, не пожелал создать крайне опасный прецедент и оставил свое решение в силе. Очевидна суровая мудрость этого решения: попыток обжаловать решение Нобелевского Комитета так и не было за сто с лишним лет существования премии. И. А. Нуштаев,
профессор истории медицины |
|
Copyright © 2001-2005, Саратовский государственный медицинский университет Создание и поддержка электронной версии: Веб-лаборатория СГМУ |